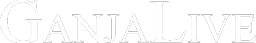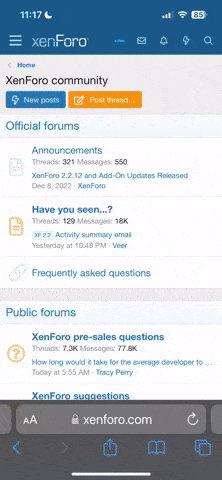Ведическая физика
Краткое пояснение к циклу статей «Ведическая физика».
Данная статья может рассматриваться как вводная к теме, которую вместо туманного наименования «Альтернативная Физика», мы обозначили еще более темным «Ведическая Физика», с уверенностью, что в результат наших исследований, послужит делу их прояснения.
Согласно регламенту древнеиндийской научной литературы, приступая к исследованию того или иного «авторитетного текста», комментатор имел обыкновение уведомлять своего читателя о предмете, цели и методе достижения этой цели, определяющих содержание представленной им работы.
Предмет нашего рассмотрения – сомнительной достоверности источник, условно названный «Трактат о Виманах", содержащий крайне интересную «физическую теорию», тесно связанную с темой «Альтернативной Науки», круга проблем возникающих при интерпретации «научно-технической» литературы древности и возможные направления их решения.
Только в такой перспективе может идти речь о «понимании» текста иной культурной и цивилизационной традиции.
Цель исследования – выявление «ведической» физической парадигмы, содержащейся в этом источнике. В процессе продвижения к этой цели, рассматриваются вопросы достоверности текста и факторы «деформации» сообщения. Но главное покажем, что, несмотря на все трансляционные и интерпретационные искажения – возможен подход к выделению полезного сообщения из неопределенной достоверности текста.
Метод исследования может быть обозначен как – принципиальной органической аналитики. Его суть в выделении базовых принципов, или системы фундаментальных для данного, конкретного, сообщения терминов. «Органическое» — это указание на факт наличия целостной ткани текста, несмотря на обилие «случайных» терминов и фрагментов.
Идеальным вариантом метода такого предметного исследования, является опора только на сам анализируемый текст (некогда мне попала большая и грамотная работа о единстве личной и литературной судьбы Ф. М. Достоевского, где не приводилось ни единой ссылки на другие, связанные тематикой, работы, и автор исходил единственно из текстов писателя), но наличие незнакомых терминов, и еще более неясных значений даваемых комментатором, делают такой подход невозможным, если только значение не содержится в «тонкой структуре» самого термина, и мы не владеем способом его извлечения.
В дополнение следует сказать, что статья не является строго научной, поэтому многие выводы и логические последовательности опущены, или даются суммарно.
Кроме того, читатель должен быть, хотя бы, поверхностно знаком с обсуждаемым текстом.
Проблемы интерпретации «Трактата о Виманах»
(Статья №1 цикла «Ведическая физика»)
«… жемчужине в небе…» «видит не глаз человека, а человек посредством глаза»
Парацельс

Такая простая и ясная картина – более яркое, чем любая звезда, на фоне чистого темнеющего неба, свободно движется нечто неведомое….
Фобии и экзальтации общественного сознания. …. Но увиденное воочию, или на экране радара, а часто и запечатленное кинокамерой, фотоаппаратом, простым рисунком становится болезненным пунктом общественного сознания. То, что порождается таким событием в сознании общества, можно понять, просмотрев одни только заголовки – многих и многих сочинений, работ, компиляций, появление длинного ряда которых может быть оправдано, разве что нерастраченной энергетикой, либо литургией труда…
Недоверие к свидетельствам не только очевидцев и фотодокументов, но и к собственным чувствам, зрению в особенности, то есть к тому чувству и органу, который всегда был основой и критерием достоверности. Аналитические центры и группы, скрупулезно изучающие каждый факт, каждое свидетельство — и делающее статистические выводы – типа — да это действительно так…, но с такой-то вероятностью, то есть иногда достоверно…, но почти никогда в конкретном случае.
В какой-то степени, этому состоянию, способствует индустрия непознанного и невероятного, для которого объемы печатных листов – важнее самих тем, и тем более истин. Эта индустрия не только заинтересована в валовых показателях свидетельств любого рода, но и сама способствует генерации вымыслов c претензией на сенсационность.
Мутный и обильный поток публикаций, где идеология «Нью Эйдж» соседствует с «теплой» религиозностью, теософией и экстрасенсорикой, где смесь из останков плохо переведенного фольклора и впечатления истеричных свидетелей, соседствует с «авторитетными» заявлениями многочисленных «гуру» и ученых со степенью и «именем», долгими, но пустыми выводами аналитиков. Если в этом присутствует «злая воля», то цель, если таковая есть, замутить чистый поток впечатлений от встречи с чем-то значительным.

Такая реакция свидетельствует о важности события и явления, о его трудно определимой, но наличествующей ценности, ибо только значительное порождает драматику отношений. Проявленная ценность – это кость, брошенная собакам…
Эта драма, из реестра тех событий, что окружают судьбу известных алмазов, или запрещенных книг — вокруг них всегда клубки интересов страстей и преступлений, сложная и запутанная вереница странно документированных свидетельств, более похожих на вереницу тайн.… Все в целом, это свидетельствует об онтологической или экзистенциальной ценности наблюдаемого явления. К этой драматике следует присмотреться внимательней, она достаточно красноречива…, по меньшей мере, как диагноз.
Так истерическая реакция может быть свидетельством бессилия, слабости — правительств, разведок, военных, конфессиональных вождей, научных сообществ, всемирного потребителя…
Правительства не могут оправдаться перед налогоплательщиками, за неспособность защитить от вероятно, а скорее всегда, небезопасных пришельцев, даже в том случае, когда они соседи по планетарной жилплощади, о чем свидетельствует горький опыт истории…
Военные не имеют технических средств, соответствующего технологического уровня, для создания кордонов, и обеспечения контроля суверенного воздушного пространства, и особенно незавидно состояние разведок и контрразведок…
Руки связаны, или точнее, коротки у представителей делового мира – феномен напрямую, не впрягается в печатный станок, не является предметом купли-продажи, не поддается приватизации.
«НЛО» древности, «Виманы» современности… Волна послевоенных событий, помимо страхов, для которых имелись все основания, породила еще и искренний интерес к феномену «летающих тарелок» не только в их настоящем, но и в прошлом. И как оказалось остатки литературного наследия Великой Индии полны свидетельствами и картинами обыденности «летательных» технологий для времен создания этой литературы.

Большая часть доступной литературы, связанной с обсуждением этих источников, посвящена более вопросам — pro и contra самой возможности существования виман в контекстах: от характера природной среды и условий, связанных с состоянием погодных условий наблюдений, до психопатологического, и очень малая ее часть связана с физикой.
В настоящее время произошло расширение ареала дискредитации темы и перенос в прошлое всех дисторсий восприятия, свойственных современности. Время, когда все ценное – предмет фальсификаций, отсутствие доверия не только к шрути — услышанному, но и сомнения относительно увиденного… Создается впечатление, что тема Виман – это атака на прошлое, посредством стратегий дискредитации, обкатанных на теме НЛО современности.
Когда эта сильная аналогия между ведическими виманами и НЛО современности обнаружилась, то это привело к тому, что древние свидетельства, постигла та же участь, что и свидетельства современные, как подтверждение древнего тезиса о том, что все что делается, должно делаться в тайне. В противном случае на все редкое и ясное найдется количественно превосходящее нечистое и больное…
Как следствие – тема виман замутнена… Замутнена, ибо многим — поперек горла… Правительствам, военным, научному сообществу, Новому Мировому Порядку, обывателю… Вимана это вызов, который волен не считаться с территориальным правом, военной мощью, законодательствами, требованиями полиций, интересами и мнениями граждан. А потому, всякий свежий источник должен быть отравлен…
У официальной науки есть железное оправдание в том смысле, что она призвана изучать вероятные и повторимые серии феноменов и событий, поэтому для нее – феномен бесполезен – так как не воспроизводим…, то есть относиться к событиям типа «чудо», а это компетенция другого ведомства.

Для чиновников ученого пошиба, это тема с дурной репутацией, где истинно остепененный авторитет рискует замарать свое имя, поскольку большей части этого сообщества просто нечего сказать…
Точность древних свидетельств… В таких вот условиях появляется текст условно названный нами… Трактат о Виманах, документ – в котором угадывается какое-то научно-техническое содержания как свидетельство обычности, и даже ординарности технологий и какое-то их описание, вплоть до классификаций типов летательных аппаратов древности.
Поскольку структура сборника слабо определена, и в то же время имеются указания на использование фрагментов других источников, помимо «Виманика-Шастры», это дает нам право присвоить хрестоматии условное название – «Трактат о виманах».
«Трактат о Виманах» — предстает как документ эклектичный и фрагментальный, с неясной системой акцентов, но который отвечает, по меньшей мере, критериям ведийской научности – определенной традицией точности.
Но что делает текст точным? То, почему мы считаем верным то или иное высказывание, вывод, заявление, базируется – «понимании», что на самом деле часто оказывается простой «узнаваемостью». Сложно приложить этот критерий к описанию технологий, о которых современной науке мало что известно, а описательные источники содержат крайне мало научно-технических подробностей…

Точность эта, как и во всей ведийской традиции обусловлена наличием описательных парадигм, их числовой определенностью, это детерминанты традиции в виде клише, форм, параметров, наполнение которых может сильно различаться.
Достаточно открыть любую книгу «Махабхараты», что бы на каждой странице обнаружить устойчивые сочетания – «шесть методов…», «четыре средства..», «три силы…» и т. д. Это свидетельство устойчивого традиционного научно- классификационного подхода.
Текст «Трактата…» насыщен, где-то потрясающей точности рецептурой создания смесей и сплавов необычных, словно «заданных» свойств, часто из множественных компонент, о которых кроме названия ничего не известно. Имеются и современные свидетельства о том, что кто-то даже осуществляет изготовление этих смесей и получает удивительные результаты, что, впрочем, сомнительно — без наличия теории их создания, такая деятельность основана на слишком длинных сериях экспериментов, подчиняющихся законам комбинаторики больших чисел.
Первое впечатление от текста – фрагменты обзора темы, программа для изучения вопроса, частично инструкции для оператора и технолога.

Краткая история текста. Трактат завершается указанием линии преемственности, которая выглядит так: Махариши Бхарадваджей написал трактат «Янтра Сарвасва» или «Энциклопедия механизмов», в которой имеется раздел «Виманика Шастры», из которого обладающий оккультным видением Анекал Субрайа Шастри, подчерпнул многое для данной удивительной рукописи.
Первое известное официальное издание «Виманика Шастра» осуществлено в Индии датируется 1979 годом, перевод на английский язык и редакция принадлежит Г. Р. Джосеру, директору международной Академии Исследования Санскрита (Майсур, Индия).
Считается что текст «Виманика Шастра» был обнаружен в одном из храмов Индии в 1875.
Полуофициальная традиция датирует первоисточник, принадлежащий перу Махариши Бхарадваджей IV столетием до н.э. и в настоящее время хранящимся в Центральном архиве индийской столицы. О его принадлежности традиции, как и о наличии самой научно-технической традиции, связанной с «воздухоплаванием» свидетельствуют ссылки, на семь десятков авторитетов, и десятка не дошедших до нас источников. Считается что, трактат написан на основе, еще более древних рукописей.
Как сказано в первой главе фрагменты неизвестного трактата обнаружены и записаны от руки на санскрите пандитом Субарайя Шастри (шастри – может оказаться просто эпитетом, вроде – знаток или учитель шастр).
В современных работах, где упоминается данный источник, можно встретить и такие подробности, что надиктованная в трансе (посредством – автоматического письма) в нынешнем столетии – рукопись является транскрипцией древнего трактата, запись которого сохранилась в акаше.

Среди отзывов, встречаются и восторженные, правда не ясно как понимать утверждения вроде такого – источник «повествует о доисторических летательных аппаратах, причем содержит вполне «точное описание применяемых технологий», то ли так, что технология воспроизведена в лабораторных условиях, то ли интерпретирована в терминах современных технологий?
Существуют и такие утверждения, что «с неопознанными летающими объектами связаны не только продвинутые технологии, но и физические законы, неизвестные нашей науке». С «продвинутыми технологиями», еще можно согласиться, а вот в отношении законов… , если основываться на свидетельствах о том, что они вытворяют, то вернее следует говорить о беззаконии…. Поскольку, закон задает рамки и границы поведения и претензий, тогда как достижения основаны на использовании свойств, эффектов, явлений и феноменов, скорее, стоящих вне закона.
Индийский институт Науки назначил комитет для исследования информации полученной от Субарайя Шастри, результат – заявление комитета, что представленные им тексты являются фальшивкой.
Но даже в этом случае, если согласится с данным заключением, это не снимает всех проблем и вопросов, связанных с этим источником, а добавляет другие. Если имеет место фальсификация, то кто фальсификатор – просто веселый человек или проводник неизвестных информаторов, сознательная шутка, или бессознательное искажение? Какова цель фальсификации? Не есть ли это то самое, таинственное, информационное оружие? Описанию какой модели мира соответствует эта фальсификация…? И насколько оправданы затраты на ее создание… Как утверждает Томпсон «есть данные, дающие повод предположить, что в свое время имели место грандиозные мистификации, исполненные с размахом, потребовавших значительных людских сил и денежных средств».

И в конце концов – может быть, главный вопрос – кому направлено данное фальсифицированное сообщение?
Предвосхищая выводы, скажем, что мы исходим из того что в тексте который выглядит как описание технологий, присутствуют две компоненты – фальсифицированная и достоверная, инвариантная и изменчивая, верная и искаженная, в этом случае сообщение, в виде неизменяемого ядра, направлено тем кто способен его понять, то есть отделить ядро сообщения от скорлуп искажений…
Доступный мне текст «Виманика-шастра» имеет такие данные: Санкт-Петербург; «Будущее земли»; 2002. По причине, то ли стыда, за качество, то ли отсутствия прав и лицензий, в издании не указан переводчик. Перевод сделан с неизвестного издания и языка. Можно предположить, что с английского.
Драматика текста: Итак, рассмотрим судьбу, пусть легендарную или мифологическую этого текста, и действующих лиц, то есть тех, кто приложил руку или усилие к его появлению в существующем виде. Так возникает тема интерпретации как драмы, где в качестве действующих лиц, выступают как активные и пассивные факторы.
В соответствии с драматургической традицией обозначим их, Автор и Фальсификатор, Комментатор и Переводчик. Их вклад в создание судьбы текста различен. Наиболее деятельными оказываются Автор и Фальсификатор, менее Комментатор и Переводчик. Несколько в стороне — Аналитик.
Эта драматика развивается по триадической схеме – Тезис Автора, создателя текста, подвергается коллективным фальсификатором отрицанию – Антитезис, в виде искажений терминов и смысла, и последующему смешению, который осуществляет коллективный проводник, интерпретатор, переводчик. Роль Аналитика нейтральна…

Суть драматики текста – в том что есть некто, создавший сообщение, есть коллективный фальсификатор, есть пассивный проводник или интерпретатор, есть тот, кто пытается понять текст, понять сообщение, среди шумов сознательной или невольной фальсификации. Понять сообщение может только тот, кому оно адресовано, то есть знающий или тот, кто способен выделить сообщение. Это Аналитик.
Первые трое присутствуют в тексте, четвертый это тот кто, разбирая проблему интерпретации, создает новый текст.
Автор – создатель сутр, утверждающий «истинное» сообщение. В общем случае, Автор научно-технического текста сам выступает транслятор системы знания, системы как фрагмента мировоззрения и соответствующей ему технологической парадигмы. Он активный организатор этой системы и, но более активный – трансформатор знания в текст, в термины и знаки.
Создатель сутр создает базовую структуру сообщения, представляющую собой систему терминов, иногда вместе с отношениями этих терминов. Следующий шаг – создание автокомментария. Автокомментарий — это развитие базовой системы, ее плоть.
Дальнейшие комментарии, как и все, что может быть подвергнуто действию искажающих факторов – пассивная линия передачи, подверженная действиям коллективного фальсификатора.
Фальсификатор – это своего рода корректор, отрицающий, быть может, уничтожающий, но, по меньшей мере, извращающий смысл. Коллективным он назван в силу его множественности и неопределенности – фантазер, мистификатор, недалекий экзальтант, намеренный дезинформатор, переписчик и переводчик это неполный возможный перечень его деятельных ликов.
Переводчик – комментатор и переводчик это более пассивный деятель, через которого осуществляется «воля» Фальсификатора или энтропийная тенденция.
Аналитик – его задача выделить из факта смешения, то есть из «смешанного» текста две компоненты: Авторскую и Фальсификатора.
Искаженный текст — это остаток после выделения базового – принципиального текста, то есть процесс обратный истории его формирования или точнее истории его затемнения и искажения. И только при наличии выделенной, ясной организующей структуры, в виде базовой системы терминов, так сказать «скелета» текста, появляется возможность, произвести поверку остатка — «плоти» на соответствие этому базовому «скелету», разбив, таким образом, фальсифицированную часть на достоверную, то есть соответствующую замыслу, и случайную, наведенную. В результате предстает в виде трех компонент, разной степени «истинности».

Этот выделенный, базовый или принципиальный компонент текста – есть критерий оценки оставшегося материала, на его непротиворечивость и соответствие базовой компоненте. Так появляется критерий достоверности для других частей и фрагментов текста.
Следует подчеркнуть, что такой подход несколько отличается от распространенного в массовой, «бытовой» аналитике, руководствующейся тезисом «статус истинности информации определен контекстом». Под статусом, здесь понимается триггерное значение – «ложь», «истина». В нашем случае контекстом является именно базовая система, по отношению к которой определяется статус всех других утверждений, содержащихся в том же тексте.
«Трактат о Виманах» — это сборник, у которого есть еще один создатель – это редактор, тот, кто объединил все фрагменты. Редактор – составитель хрестоматии, это тот, кто имеет свой замысел, определенную систему это своего рода новый автор, дающий документу новую жизнь и судьбу, средствами организации и акцентации, правда, не защищенный от возможного влияния фальсификатора. Организатор фрагментов – строитель новой системы.
Из обломков систем создающий, может быть эклектику или конгломерат новой системы. Его отношение к фальсификатору и автору загадочно, авторитет первого он использует как строительный ресурс, но не защищен от влияния второго, то есть строитель, чей замысел не ведом, оставшийся анонимом.
У читателя возникает естественный вопрос, для чего нам эта драматургия, и весь этот источниковедческий спектакль? Во-первых, для того, что бы продемонстрировать потенциал сил, определяющих достоверность текста и искажения на линии передачи… Казалось бы, эта линия обозначена — исходная энциклопедия с авторским комментарием, другие комментарии и источники, и собственно Трактат.
В конечном счете, определены, по меньшей мере, два момента неопределенности, что позволяет в рамках поставленной задачи, говорить о выделении полезной, достоверной информации из сигнала с искажениями. Основных факторов – два. Первый связан с оккультным характером передачи сообщения, второй с последующими переводами. Что значит наличие таких искажений ?
Восприятие такого сложного сообщения из прошлого невозможно без контаминации его темами, терминами и мифологемами свойственными культурной атмосфере комментатора и переводчика. Это своего рода перифраз на язык современности древнего текста. В этот процесс вполне могли вмешаться некоторые «оккультные шутники» с добавлением чего-то не свойственного данному тексту. Но это именно добавление, от которого следует освободить текст, гораздо сложнее разобраться в случае смыслового искажения.
Приблизиться к решению можно, если сосредоточиться сначала на принципиальной парадигме текста, выделить именно ее, что позволит оценивать детали сообщения с точки зрения смысловой парадигмы.
Правда, нельзя исключать и возможности и смешения нескольких тем и источников самим перцептором (сходные темы, гармония смешанного восприятия и т. д.). Тема оккультной информации и влияний достаточно темна…

Еще один важный фактор, возможного искажения — перевод, который совершался, по меньшей мере, дважды с санскрита на английский и с английского на русский, оба неизвестного качества и адекватности…, если вообще можно говорить об адекватности при переводе…
Итак, стоит ли браться за исследование текста столь недостоверного качества, с целью найти в нем научно-технические решения… и есть ли путь отделения шумов от данных, зерен от плевел?
Такой путь есть — он описан нами как выделение принципиальной парадигмы. Если нам удастся ее выделить, то все другие фрагменты сообщения, мы способны будем оценивать по критерию не противоречия этой парадигме.
В силу этого у нас только один путь аналитический.
Многосмысленность. Два плана. Текст может быть истолкован двояко, как текст физико-технического содержания, и как описание техник «астрального конструирования», то есть содержащий ремнисенции оккультных учений. Но мы намеренно ограничимся рассмотрением именно физической парадигмы.
Если данный текст изначально построен на смешении смыслов, относящихся к двум мирам или планам, это означает только одно, что они вполне способны терминологически замещать друг друга, то есть речь идет о некоторой парадигме, в которой термины суть более символы, чем точные «научно-технические понятия». Этот последний подход – требует такой точки зрения, что для символа нет существенного различия между мирами и планами, точнее речь идет о принципиальном охвате их обоих.
По свидетельству Парацельса, астральный план, суть причинный, по отношению к физическому, с каждым физическим телом он связан либо внутренне как «зародыш» физического тела, либо присутствует как аура, доступная тренированному взгляду. Тем самым, рассматривая физический план, позитивистскую модель или парадигму, мы тем самым не исключаем и «тонкого», «астрального» содержания.
Уже поверхностный взгляд, а может быть именно поверхностный, позволяет предположить, что в тексте «Трактата о Виманах» наличествует смешение описаний двух технологий, а именно «астрального» и «физического» конструирования, точнее описаний конструкций и «механизмов» создаваемых в разных мирах. Но в силу смешения двух описаний эти миры и конструкции постоянно «перетекают» друг в друга, и не всегда ясно в каком контексте применяется та или иная конструкция, способ, технология.

Такой характер текста, может иметь два объяснения… Первое поверхностное, и связанное с медиумической историей его, переоткрытия – точнее это смешение нескольких текстов, учений, с «похожей» системой терминов, относящихся к разным технологиям, разной проектной и технологической деятельности, связанной с двумя мирами приложения «вещественного» творчества — «астральным и физическим».
И второе, возможно, что данный текст намеренно построен на смешении двух моделей, или точнее одна модель, интерпретируемая в терминах, разных миров или планов, поскольку различие миров не принципиальное, а в «степени» или интенсивности (грубости, тонкости) этих планов, что и позволяет описывать принципиальную модель, в терминах этих миров.
Это косвенно подтверждается свидетельствами наблюдений — одни из виман, ведут себя как механические устройства, так сказать «плотные», другие подобно пятну света на поверхности облаков, чем задана естественная классификация, основанная на наблюдении – физические и «нефизические» виманы.
О принадлежности текста к поздней ведической традиции – свидетельствует предваряющее текст, славословие – Махадеве и Сарасвати что указывает на времена устоявшегося вишнуизма, когда экстремизм шиваизма, сменился на более конвенциальные формы деятельности, то есть времени разложения индоарийской общности территории Евразии, единство пространства которой, проявляется в географии мест сбора компонент рецептур и составов, приводимых в тексте, так и свидетельствами Махабхараты, источнику имеющему именно, вишнуитскую редакцию.
Итак, базовая структура рассматриваемого текста, задана сутрами. Сутра – суть лаконичное высказывание, состоящее из одного или нескольких терминов, по сути, это элемент или фрагмент системы знания, но элемент достаточно устойчивый – полнота сутр краткий конспект этой системы.
В этом отношении сутра – скорее мнемонический знак, и в этом смысле требует развертывания и комментария, соответственно предполагающий неоднозначное толкование. Причем, в традиции такая многосмысленность не только не исключается, но часто является обязательной, входящей в методологический канон. Сутра требует детализации и комментария в контексте живой культуры, школы, или мифа.
Имея тезисный характер, сутры, скорее заголовки тем, нежели их «раскрытие», скорее оглавление, чем текст, мнемонический код определенной системы знания. Эту роль раскрытия темы выполняет комментарий, первоначально авторский — автокомментарий. Далее в линии передачи возникает, комментарий последователя, комментарий на комментарий, так сказать фальсификация фальсификации. Это еще одна, дополнительная сложность интерпретации и понимания.
В нашем представлении наука требует точности и определенности, но Ведическая наука иное дело, в этой системе один термин или аллюзия могут указывать на целое направление, линию преемственности, на общую, избитую цитату из признанной соотечественниками работы или на скрытую полемику, с антагоничным направлением или школой.
Последнее редактирование модератором: